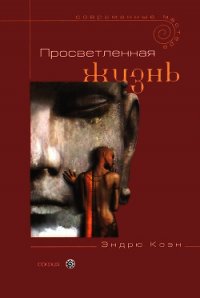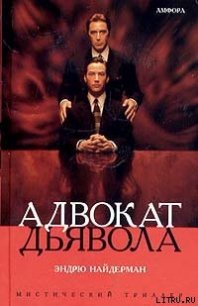Принцип Д`Аламбера - Круми Эндрю (читать хорошую книгу полностью txt) 📗
Уважал Анри и Жюстину. Правда, это было уважение, какое испытывает отец по отношению к своему ребенку, которого следует воспитать по обычаям света. Когда они поженились, Жюстине было пятнадцать лет, а Анри двадцать четыре. В первую брачную ночь она проявила полное невежество, хотя и не чувствовала отвращения к близости (за прошедшие годы Анри не раз думал об этом, подозревая, что невежество было притворным, и Жюстина разыграла его только для того, чтобы ободрить). У них до сих пор не было детей, и, пожалуй, это было благом. Жюстина стала для Анри женой и дочерью одновременно. Такова воля божья, и кто он такой, чтобы жаловаться?
Работая, он часто позволял себе размышлять и философствовать. Дел было мало, а времени для раздумий — много. Он знал, что его хозяин написал великие книги, что он умнейший человек на Земле, но в действительности между ним и Анри нет никакой разницы. Хозяин ничем не лучше своего слуги. Почему в голове лакея не могут зародиться мысли столь же глубокие, как и в голове жалкого старика, влачащего на втором этаже свое убогое существование? В чем, собственно говоря, разница между их мозгами?
На своем веку Анри прочел одну-две книги, из которых почерпнул множество вещей. Он знал, кто такой Цицерон, и мог перечислить семь чудес света. Он знал, что Земля вращается вокруг Солнца, а Луна вращается вокруг Земли. Однажды, пребывая в праздности, он вообразил Д'Аламбера Солнцем, себя Землей, а Жюстину Луной — и увидел в этой картине иллюстрацию космического равновесия их отношений. Озарение настолько поразило Анри, что он решил записать его и даже нашел для этого перо и бумагу. Но стоило ему посмотреть на чистый лист, как образ молниеносно испарился. Анри понял, что у него нет слов для выражения ясно увиденной картины. Но он дал себе клятву записывать отныне все свои наблюдения, если, конечно, найдет для этого время.
Жюстина подошла к двери кабинета, тихонько толкнув, открыла ее и увидела спину, низко склоненную над столом голову и свисавшие на плечи длинные седые волосы. Мсье Д'Аламбер не носил парика. Она поставила поднос на стол рядом с бюро хозяина, но он не пошевелился, не поднял глаза и вообще ничем не показал, что заметил присутствие Жюстины. Только движение правой руки говорило о том, что хозяин не уснул и не умер, а быстро что-то пишет.
III
Не могу с уверенностью сказать, чем началось и чем кончилось сновидение. Более того, я даже не возьмусь утверждать, что сновидение вообще имело начало и конец. Мы лишь предполагаем, что это так, наблюдая засыпание и пробуждение других людей. Сам я никогда не был в состоянии точно определить момент, когда начинается сон (а следовательно, и сновидение). Точно так же не могу я быть уверенным в том, что мои первые впечатления по пробуждении являются свидетельством окончания сновидения (а не простым восстановлением сознания после некоторого временного пробела или периода полудремы). Было бы разумно предположить, что сновидения существуют внутри нас (или где-либо еще) в некой сложной форме, скорее всего похожей на книгу, а акт сновидения заключается в перелистывании ее страниц — вперед или назад — порядок не подчиняется ни разуму, ни законам логики.
Но при этом я отчетливо помню мой чудесным образом переписанный «Трактат» и его идею о том, что в жизни, так же как в физике, все явления сводимы к единому Принципу, единому закону или аксиоме, каковые являются самоочевидными и неоспоримыми. Этот закон гласит, что жизнь представляет собой не некое хаотическое, лишенное какого бы то ни было значения событие, но напротив, является вполне объяснимой и следует скрытым законам, познав которые, мы сумеем познать и ее смысл. Мне приснился сон, в котором «Трактат» был — как и моя жизнь — переписан заново, или — можно сказать и так — это был сон, в котором моя жизнь предстала как своеобразное математическое доказательство. И все это произошло за мгновение, в течение которого человек едва успевает кивнуть!
Во сне я видел множество людей, и это неудивительно, поскольку сновидение представило моему разуму картину всей моей жизни. Но начать следует — если мы все же допустим, что существует начало сновидения, — с женщины, которую надо считать исходной причиной событий, происшедших впоследствии. Мои знания об этой женщине основаны на рассказах других людей (такова ирония судьбы — важнейший персонаж моей биографии так и остался для меня совершенно чужим человеком). Правда, все, что я о ней узнал, заставило меня восхищаться ее талантами в той же мере, в какой я презирал ее характер.
Клодин де Тансен была, несмотря на свою порочность, выдающейся женщиной. В юности она попыталась обуздать свои страстные инстинкты и стала монахиней, но вскоре нарушила обеты и пустилась в любовные приключения с множеством мужчин, каждый из которых был так или иначе ей полезен. Эти связи были скандальными даже по меркам нашего распутного века. Она сумела обольстить (так, во всяком случае, говорили) собственного родного брата, которого впоследствии с помощью хитроумной интриги сделала кардиналом. Потом было бесчисленное множество других. Бессмысленны были совокупления красивой, умной и глубоко порочной, преждевременно состарившейся от разврата женщины, чье сердце не смогла тронуть ни одна душа, запятнанная ее прикосновением. Одного из своих кавалеров она довела до такого исступления, что от любви к ней он на ее глазах выстрелил из пистолета себе в голову, предъявив ей этим самое тяжкое обвинение. Этот мужчина (кажется, его звали Френэ) умер напрасно. Мадам де Тансен было невозможно остановить таким «безвкусным» и незначительным жестом.
Она находила время писать. Это приятное развлечение позволило ей в полной мере продемонстрировать свое глубокое знание человеческих слабостей. Кроме того, она держала один из самых престижных парижских салонов. Мармонтель, Фонтенель… Все они целовали руку этой красавицы в дни ее блеска.
Я не могу сказать, считала ли мадам де Тансен свои любовные дела приятным дополнением к салонным обязанностям, или все обстояло как-то по-другому. Более важной, с точки зрения моей истории, представляется ее связь с шевалье Детушем. Это был очень красивый и очень скучный человек, не лишенный, впрочем, налета порядочности, что весьма необычно для парижского светского общества. Они оба явились в моем странном сне (в странном «Трактате»). Она — в виде большого неправильного эллипса, а он — в виде касательной к кривой иного конического сечения (мне кажется, это была гипербола). Я воочию видел, как они (за те минуты или часы, что я спал) на короткий миг пересеклись в одной точке.
Я не могу сказать, как началась эта связь. Лихорадочные набеги мадам де Тансен на аристократов Франции и других стран не подчинялись никакой логике, и я полагаю, что объединяло их одно — полная беспорядочность. Могу только гадать, каковы были обстоятельства, в которых я был зачат этими людьми.
Однако зачатие произошло. Эти двое с большой неохотой позволили мне появиться на свет. Именно она, мадам де Тансен (хотя я узнал об этом много лет спустя), несла меня по ночным улицам Парижа в холодном ноябре 1717 года, чтобы оставить на паперти церкви Сен-Жан-ле-Рон, безмятежно обрекая меня на почти верную смерть.
Такая же случайность, как и та, благодаря которой я родился, позволила мне избежать смерти, избрав орудием спасения пожилую женщину, вышедшую в тот момент из церкви (толстуху с теплым лицом; я уверен, что каким-то образом запомнил это). Она спасла меня и отнесла в приют подкидышей.
Как выглядел этот приют в моем сновидении? Как огромный серый дом, полный кричащих младенцев. Отвратительное место с протянувшимися от стены до стены рядами вопящих ртов, похожих на маленькие нули. Эти ряды были похожи на запись астрономически большого числа, не поддающегося названию из-за своей огромности. Мне повезло, и я не слишком долго задержался в этом ужасном доме.
Мадам де Тансен, услышав о моем спасении, перестала думать об этом прискорбном деле (даже когда я стал знаменитым, она не признала меня и не проявила ни малейшего интереса к моему существованию). Скучный шевалье, напротив, был потрясен, узнав, что его дитя лежит в одном доме с другими покинутыми детьми Парижа. Он сразу все устроил, и меня передали на воспитание приемным родителям. Этот поступок был проявлением порядочности и невольного великодушия, поскольку я попал к двум добрейшим людям, каких можно себе представить.